Село Барятино, что под Тарусой, каких-то двенадцать лет назад было готово уступить все свое пространство паутине, сквозь которую любопытные дети глазели на средневековый замок – вытянутые заостренные окна, узорчатые башенки, арочные порталы, розетки… На самом деле это был заброшенный и обезглавленный Успенский храм. Рядом с ним разрушался на глазах белокаменный в хоромном стиле усадебный дом, и если бы в нем не размещалась школа, то давно бы все ушло в землю, тем более что стоит “теремок” на насыпи, поддерживаемой каменистой стеной. Еще образы из недавнего прошлого: заросшая дорожка ведет к двум высушенным прудам, где когда-то, это еще помнили старожилы, плавали лебеди. На левом берегу прудов – заросший пейзажный парк. Не сказать, что сегодня история поменялась кардинально, но все же отсветы ренессанса в отдельно взятом селе не заметить – грех.

Украинка в русской усадьбе
– Да снести все надо кроме храма и усадьбы, кому эти развалины нужны?! – говорит местный священник отец Вячеслав Бахаев, это он так шутит, чтобы дружески поддеть главу сельской администрации Валентину Гануленко.
– Да ну вас, отец Вячеслав! – Валентина Ивановна подобные “предложения” слушать не готова даже в шутку, слишком часто они звучали в ее присутствии от разных людей – и местных и пришлых.
Гануленко приехала в Барятино с Украины по распределению, работала бухгалтером в совхозе, потом, когда от совхоза остались только строения, директорствовала на одном из подразделений конезавода – отсюда родом сразу несколько современных рекордисток. Карьера складывалась, одно не давало покоя – слова отца, который однажды, приехав к ней в гости, сказал: “Валя, пока вы храм в порядок не приведете, у вас в селе порядка не будет”.
Но менялись главы, менялись инвесторы, вкладывающиеся в местное сельское хозяйство, однако до усадьбы всем не было дела. Все изменилось, когда в Барятино купил дачу московский бизнесмен Вадим Юзиков, который просто не смог ездить мимо порушенной святыни. И дело оказалось не в религии. На вопрос “верующий ли вы?” бизнесмен осторожно отвечает: “мы люди русские все где-то верующие”, зато на вопрос, “что двигало вами, когда вы решили восстанавливать храм?” ответ звучит вполне определенный.
– Меня сильно напрягал вид разрушенного храма и разрухи вокруг, и тогда появилась мечта храм восстановить, чтобы люди молились, чтобы село осталось. Потому много поселений пропадает, исчезают храмы, школы, и следом – села. А храм – это некий якорь.
Юзиков дал своих денег, привлек друзей, знакомых, и в 2011 году работа – нет, не закипела. Храмы, пережившие десятилетия равнодушия, быстро не возрождаются – однако у местных появилась надежда. Спустя десять лет Успенскую церковь освятили. К этому времени уже стали сбываться слова Гануленко-старшего и по неслучайному совпадению наводить порядок в селе назначили его дочь.
– За последние три года Барятино в нашем районе три раза признавалось самым благоустроенным селом, а до этого на село никто внимания не обращал, – рассказывает Валентина Ивановна. – А сколько мы для этого вывезли от храма и со всей усадьбы мусора и завалов! И все своими руками, по старинке, человек сорок-пятьдесят наших сельских активистов собираются и не разгибаемся до темноты!
– А зачем все это? – не унимается священник.
– Как зачем?! – Гануленко теряется, смотрит на отца Вячеслава, пытаясь понять – он опять шутит или хочет вытянуть ее на серьезный разговор. – Мы должны беречь то, что сделано нашими русскими людьми.
Так и говорит украинка: “Нашими русскими людьми”. И тут уже ни у кого язык не поворачивается с ней поспорить.

Пиковая дама и черный заяц
Краевед и местная учительница по фамилии Ковальчук держит в руках папку с историей усадебного дома в Барятино. Надежда Гавриловна в этих стенах и преподавала, вспоминает, что в ее школе раньше училось 320 детей, сейчас 40. И учителя работали все “золотые”, многие из них и собирали краеведческие записки в эту папку.
– Когда я попала сюда по распределению, я ахнула. Такой усадьбы я тогда нигде не видела, и сразу поняла, что с этими местами связана какая-то очень важная история, поэтому тоже занялась краеведением, – говорит Надежда Гавриловна. Ее исследования, а также разборы архивов профессиональными краеведами показали, что барятинскую историю можно смело вести с 1550 года, тогда село получил “за службу” князь Василий Барятинский. Собственно, от него осталось только название, от следующих же владельцев до нас дошли хотя бы каменный господский дом и легенды. Речь идет о роде Голицыных. При них был построен конный завод, на речке Тарусе – мельница. Было время, Барятино часто навещала княгиня Наталья Петровна Голицына, та самая старушка, которую Пушкин навсегда назначил “Пиковой дамой”. По местной легенде, Наталья Петровна умудрилась подстрелить в местных лесах черного как смоль зайца.
Но рассвет усадьбы связан все-таки не с Голицыными, а с князьями Горчаковыми. И здесь снова история рифмуется с Пушкиным – полковник Сергей Дмитриевич Горчаков был троюродным братом лицейского друга поэта – канцлера Александра Михайловича Горчакова. Этого факта, вероятно, хватило, чтобы барятинские князья унаследовали вкус и поэтичность. При них появилась странная для русской глубинки готическая церковь, они же достроили голицынский дом, собрав в нем столь богатую коллекцию живописи, что картины из Барятино после революции не знали куда деть – досталось и столичным музеям, и провинциальным.
“Я еще застала здесь башню, которую Горчаковы очень искусно встроили в русский стиль, башня рухнула, но корпус остался, а еще была при князьях оранжерея, на этом месте теперь… – И тут учитель истории Надежда Гавриловна запинается. Ее реакцию я понимаю, когда обхожу господский дом – вместо оранжереи неприглядный серый амбар, который по документам называется “спортивным залом”. Архитекторы и те, кто одобрил такое соседство типового строения с историческим зданием, горчаковским вкусом явно не обладали.
Важно заметить, что Горчаковы не были дачниками, они жили в Барятино круглый год и лично возделывали хозяйство. Это князь Дмитрий разбил пейзажный парк, в котором отлично управлялся лопатой и секатором. Даже сегодня, когда погибли многие деревья, спущен пруд с островами, утеряна сеть дорожек, парк кажется чудесным уголком природы.
История усадьбы обрывается на князе Дмитрии Сергеевиче Горчакове, губернаторе Калуги. Его жену, графиню Комаровскую, в 1918 году застрелили в Тарусском ЧК за то, что она не сказала, где прячется муж. Впрочем, последнего владельца Барятино все-таки нашли, он кончил жизнь трагически – в ссылке.
“Вот такая у нас жизнь, и это только крупицы, работать да работать в архивах, – как мантру повторяет то и дело Ковальчук, после чего вздыхает. – Может и найдутся люди, которым я смогу передать нашу папку?”.

“Стрелка” с прошлым
Но вернемся к современности. Пару лет назад к горчаковскому парку подъехали машины, мотоциклы, подошли местные жители. Многие были вооружены пилами, ножовками, лопатами, некоторые держали мешки. Кто-то дал сигнал: “Ну пошли”. И тут началось…
– Все заросло хмызником, а валежника сколько было! И вот в первых рядах пошли мужики с бензопилами, за ними все остальные. Подбирали, выносили из парка, долго работали, но теперь хоть первоначальная красота показалась, – говорит глава. А я ловлю себя на мысли, что если нынче мужики собираются не на “стрелку”, как в девяностые, а ради красоты, значит и правда есть шанс вернуть утраченное.
Впрочем, сделать это будет непросто. Как нам рассказала одна из руководителей фонда “Тарусское наследие” Ксения Савоскул, изучившая опыт возрождения усадеб, самый идеальный вариант – это когда в дело включается и государство, и частники, и общественники. Пока в этой цепочке не хватает главного участника – государства.
“Бесспорно нужны гранты, нужны партнеры, нужны благотворительные акции, все это пусть медленно, но принесет свои плоды, – говорит Савоскул, – но полноценно сделать усадьбу туристически привлекательной без участия государства не получится. К тому же Барятино – объект культурного наследия регионального значения”.
“Тарусское наследие” однажды уже организовало в Барятино фестиваль-ярмарку, но, как признаются общественники, первый блин вышел комом, впереди попытка номер два. Еще из того, что удалось сделать на деньги фонда – кровля местного амбара.
Зачем священника повели в подвал?
Амбар – это еще одно чудо-строение XIX века, меня ведут туда все те же первые лица – глава и настоятель. С виду здание особых впечатлений не вызывает, но вот Валентина Ивановна поворачивает ключ в увесистом замке, отворяет громадные ворота, и мы оказываемся где-то в другой реальности: арки, ажурные перегородки, кованные решетки, вымощенный пол. Будь такое здание в Москве, за него бы бились богатейшие реставраторы или галеристы, здесь же оно стоит бесхозным.
– Когда я работала в совхозе, мы здесь зерно хранили. Оно никогда не портилось, а наоборот доходило до идеальной кондиции, – рассказывает Валентина Ивановна. – А теперь я вам покажу нечто! Только вам с батюшкой надо спуститься в подвал.
– Даже бывшие комсомольцы любят попов в подвал водить! – Отец Вячеслав в своем репертуаре.
И вот мы в подвале. И мы молчим. Каменные своды, те же арки, приятная прохлада… От ощущения масштабности прошлого, в котором без современной техники создавали архитектурные шедевры, захватывает дух.
– А здесь мы мясо держали, оно хранилось лучше, чем в холодильнике, – продолжает Валентина Ивановна, – по моим догадкам, у стен бежит ручей, поэтому здесь такая температуру. Но как можно было так все продумать при строительстве! Вот как это можно сегодня потерять?
– Да это мощно, – говорит отец Вячеслав.
– Так вот и беритесь за возрождение, – ловит его на слове глава. – Вы молодой, активный, вы священник, а замыслы тут такие грандиозные, что без высших сил не обойтись. Да и ведь кто-то должен подхватить инициативу людей.
Подпертый каменными сводами отец Вячеслав обещает подумать.

Кстати
В Тарусе, что от Барятина в тридцати километрах, есть хороший пример, когда дело сохранения истории взяли в свои руки частники. В советские годы здесь жил известный ботаник Николай Ракицкий со своей женой писательницей Софьей Федорченко. В городе на Оке они создали крупнейший сад-дендрарий, где посадили редчайшие виды кустарников и деревьев. А из своего дома они умудрились сделать уютное – с высокими потолками, витражами, изразцами – пространство. Долгие годы и дом, и сад были заброшены. Два года назад их приобрела московский дизайнер Евгения Жданова. Первое время она занималась восстановлением дендрария самостоятельно, затем ей удалось получить поддержку калужского правительства, а также всевозможные гранты, благодаря которым Жданова открыла музей и продолжает облагораживать территорию. Сегодня Дом Ракицкого с роскошным садом – одно из популярных туристических мест в Тарусе. Интересно, что мотивация Ждановой один в один совпадает с барятинскими активистами. “Мне показалось, что в этой ситуации, я должна была взять ответственность на себя и стать проводником между прошлым и будущим, возродить наследие, которым мы пока еще обладаем и бережно передать, возможно, своим последователям”, – рассказала дизайнер журналисту “РГ”.
Максим Васюнов, «РГ»
Фото автора





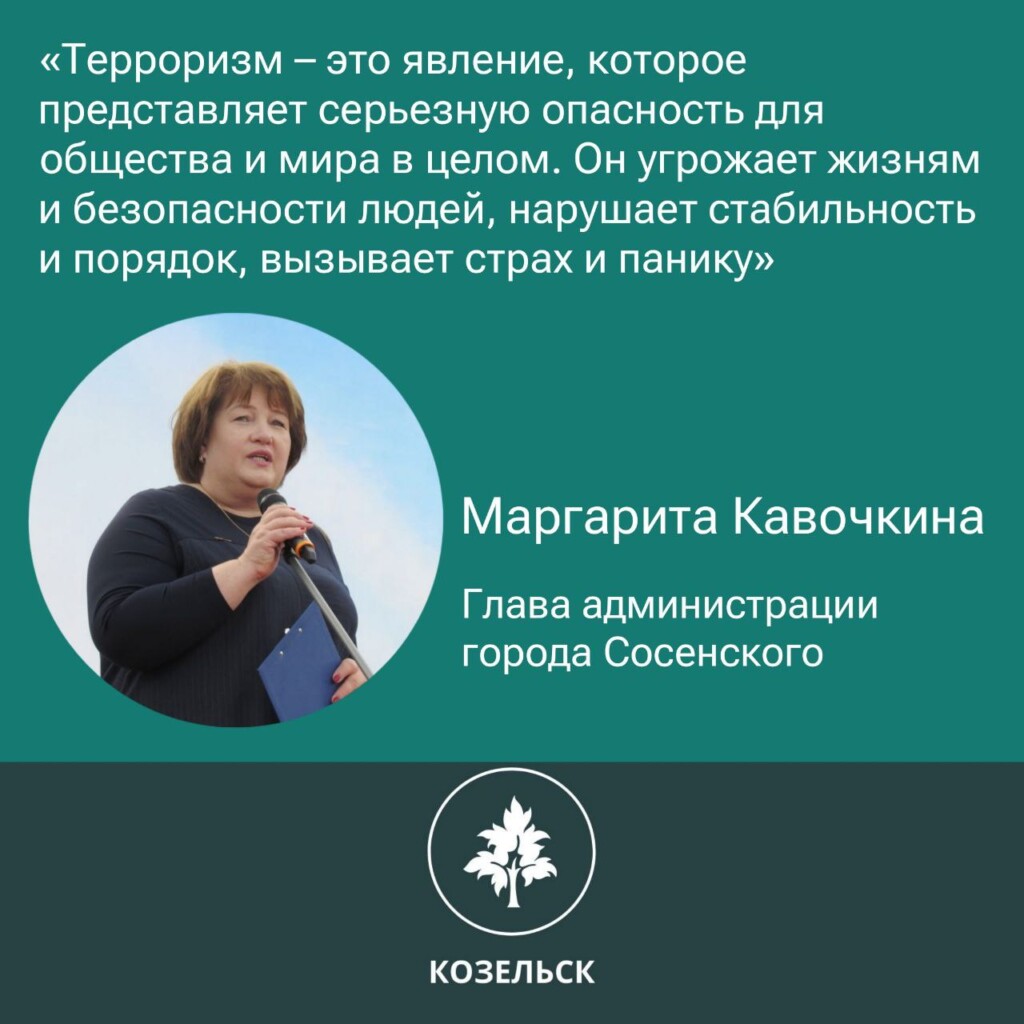






Ваш комментарий будет первым