В газете «Козельск» нередко можно прочитать интересные интервью. Недавно Анатолий Тихонович Гринденко поведал о древнерусском певческом искусстве, церковном песнопении, хоровой музыке, о самобытных древнерусских распевах. Читая его высказывания, мне вспомнилось одна деревенская свадьба, на которой местные певуньи продемонстрировали искусство величальных песен.
Брат моей подружки Раи Комаровой, Николай Фёдорович, жил в Москве, был военным, а свадьбу решил играть в деревенском родительском доме в деревне Верхние Прыски Козельского района. Сам красивый, среднего роста и невесту Веру привёз красавицу, стройную, высокую, теперь таких называют фотомоделями. Тётя моя, Анна Васильевна Хромовичева (в замужестве Стрельникова), была крёстной жениха, поэтому её пригласили на свадьбу, а она взяла меня с собой, да и подружка Рая меня пригласила.
Свадьба была в разгаре. Все веселились, произносили красивые тосты, желали молодым счастливой совместной жизни, богатства, много детей, долголетия, кричали «горько».
И вдруг появились верхнепрысковские певуньи: сёстры Мария Давыдовна Амелина и Анна Давыдовна Хромовичева, баба Маша Васина, Зинаида Ивановна Хохлова. Одеты они были в яркие старинные сарафаны, широкие рукава блузок вышиты, покрыты красивыми платками, на шее – несколько ниток бус, обуты в ботинки со шнурками. Они были такие красивые, как артисты!
Гости начали давать им деньги и заказывать величальные песни. Сначала величальницы воспели красоту невесты и жениха, пожелав им любви и согласия в семейной жизни. Молодым девушкам нарекали женихов, парням – невест. Семейным парам сулили долгое семейное счастье, людям постарше – здоровье, долголетие. И всем желали мира, любви, благополучия. Песен певуньи знали огромное множество, хватило повеличать всех гостей.
Пели они на два голоса, с подголосками, слаженно, красиво, улыбка не сходила с их лиц. При этом они приплясывали, притопывали, отбивали ритм деревянными ложками. А баба Маша большими деревянными прищепками, нанизанными на шнурок, то отбивала «дробь», как каблуками, то изображала топот копыт или шуршание и другие всевозможные звуки. Всё было так здорово, празднично, необычно! Выступление верхнепрысковских певиц было украшением свадьбы.
Я училась ещё в начальной школе, но мне захотелось, чтобы и меня повеличали. Тётя Нюра дала певуньям денег, а они пропели мне такую песенку: «Стоят веточки – пошумелочки. Ещё постоят, ещё пошумят!». Слов мало, но женщины так красиво спели, повторив слова несколько раз, да двигаясь в своих старинных нарядах, как в хороводе, постукивая ложками и прищепками, что очаровали всех. Эта красивая свадьба осталась в моей памяти на всю жизнь.
Анатолий Тихонович в интервью сказал, что «Вечерний звон» – чешская песня. А я по радио слышала такую историю создания стихотворения «Вечерний звон». Девятнадцатый век. Грузинский монах, находясь на священной горе Афон в Греции, очень скучал по своей Родине, Грузии. Об этом он написал стихотворение.

Англичанин Томас Мур, поэт и собиратель творчества народов мира, перевёл это стихотворение на английский язык.
Русский поэт Иван Иванович Козлов с английского перевёл на русский язык. Так появилось стихотворение «Вечерний звон». Имя грузинского монаха известно, но когда я стала слушать передачу, его уже произнесли и больше не повторили.
В телевизионных концертах автором слов «Вечернего звона» всегда называли И. Козлова, а недавно в конкурсе «Голос» 60+ авторами слов были написаны И. Козлов, Т. Мур; Т. Мур упомянут впервые.
У Дениса Васильевича Давыдова в стихотворении «Не пробуждай, не пробуждай…» есть такое четверостишье:
Не повторяй мне имя той,
Которой память – мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.
Песнью отчизны для русских эмигрантов была песня «Вечерний звон». Когда они, находясь вдали от Родины, собирались вместе, то, тоскуя по России, всегда пели эту песню. За границей « Вечерний звон» так и называли – песня русских эмигрантов.
Песня «Вечерний звон» любима до сих пор.
Тамара Васильевна Грибенко,







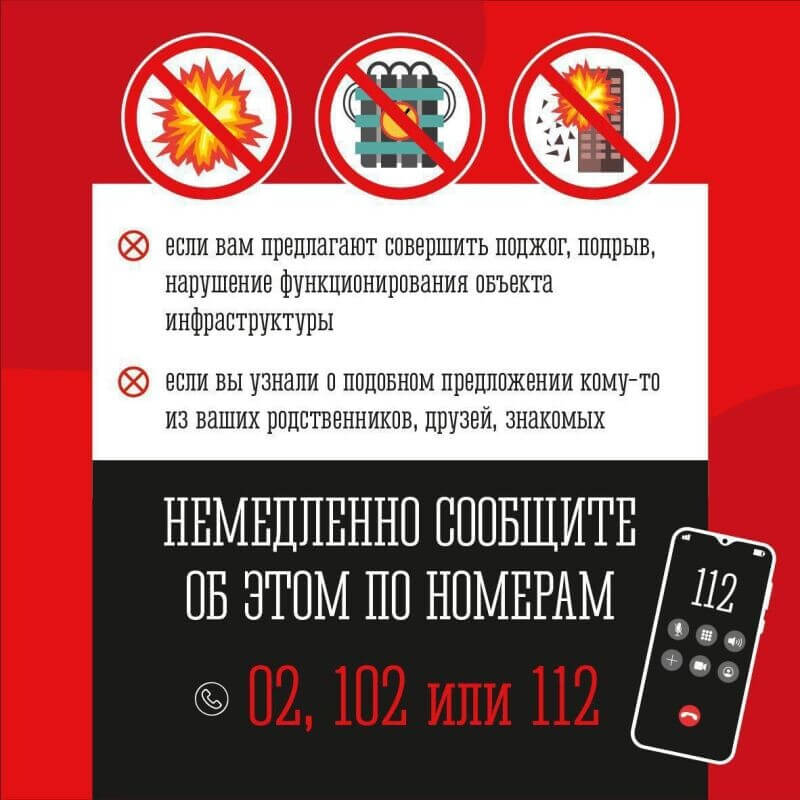
Ваш комментарий будет первым