На прошлой неделе 10 февраля исполнилось 140 лет прекрасному писателю Борису Константиновичу Зайцеву (1881-1972). Главный долгожитель среди русских писателей, эмигрантов “первой волны”, Зайцев прожил 90 лет и скончался в Париже позже всех своих современников по дореволюционному писательскому кругу. Зайцев был современником не только Горького, Бунина, Леонида Андреева, но и позднего Льва Толстого. Он дружил – да, дружил, как младший товарищ, – с Антоном Чеховым, с которым познакомился в Ялте в 1900 году. Именно Чехов, а также Леонид Андреев поддержали молодого Зайцева в его писательской карьере. А она была очень длинной и сложной. Как и вся его долгая судьба, которая началась в Орле, а закончилась на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Странно, что Борис Зайцев, своим выдающимся и разносторонним художественным талантом нисколько не уступающий Бунину или, допустим, Ивану Шмелеву, так и не вошел в первый ряд писателей ХХ века. И даже в эмигрантской литературе остался как бы в тени других, более знаменитых. Хотя любопытно, что именно он с 1947 года и до конца своих дней возглавлял Союз русских писателей во Франции. И это вполне объяснимо: во время Второй мировой войны, когда среди писателей-эмигрантов произошел раскол на тех, кто сочувствовал Красной армии и желал победы СССР, и тех, кто едва ли не склонялся к тому, что “сломить” коммунизм важнее, чем победить фашизм, Зайцев всегда оставался в стороне от политики. Он писал свою прозу, исполненную подлинного христианского духа, создавал потрясающие биографии Тургенева, Жуковского, он написал непревзойденную до сих пор книгу о Сергии Радонежском (не житие, а скорее духовная биография), он занимался переводами Нового Завета, но в политику не лез. Она была противна его душе.
Разумеется, коммунизм был ему враждебен, и с Советской властью он никогда не заигрывал. Но вел переписку с Борисом Пастернаком в конце его жизни, переписывался с Анной Ахматовой. Он написал одно из самых мудрых писем Александру Солженицыну, когда того стали травить на родине:
“Александр Исаевич, чрез тысячу верст, нас разделяющие, и чрез жизнь, не позволяющую встретиться, направляю Вам благожелания и сердечное сочувствие”. И далее, говоря о его книгах отмечает, что в них “не просто советская жизнь в вольном освещении”, но и то, что их автор – “в злободневности, пестроте, в боли вчерашней”.
“Вам труднее, кроме пафоса обличительного, чаще всего уводящего от высокого художества, Вас могут упрекнуть и в другом: вообще в перевесе документального, Choses vues, над вымыслом творческим. Но, слава Богу, есть и иное, Ваше органическое – в этом Вы в линии великой русской литературы XIX века, не подражательно, а врожденно. Есть глубокое дыхание любви и сострадание. Оно подземно у Вас, но подлинно. Вы его не “возглашаете”, оно само говорит, даже Вас не спрашиваясь, голосом тихим и непрерывным” (1969).
А какое удивительное письмо он написал Анне Ахматовой, прочитав ее “Реквием”! “Буря Вас взрастила, углубила – подняла. Кто не знает, что такое – биться головой об стенку, тот не видел революции… Бились ли дома головой об стенку за близкого – не знаю. Но искры излетели из сердца. Вылетели стихами, не за одну Вас, а за всех страждущих, жен, сестер, матерей, с кем делили Вы Голгофу тюремных стен, приговоров, казней… Вот и выросла “веселая грешница”, насмешница царскосельская – из юной элегантной дамы в первую поэтессу Родной Земли, голосом сильным и зрелым, скорбно-звенящим, стала как бы глашатаем беззащитных и страждущих, грозным обличителем зла, свирепости” (1964).
Но самое удивительное и знаменательное событие – это встреча Бориса Зайцева и советского писателя Юрия Казакова в Париже в 1967 году. Казаков поступил в Литературный институт в 1953 году. В этом же году ушел из жизни Иван Бунин. Подсознательно, а порой и сознательно Юрий Казаков чувствовал себя преемником Бунина, и в его прозе это сильно чувствуется. Доживи Бунин до славы Казакова, он, не сомневаюсь, признал бы в нем своего младшего собрата. Но это было уготовано Борису Зайцеву.
Их разговор о Бунине, записанный Казаковым на пленку, произошел в парижской квартире Бориса Константиновича. Он воспроизведен в фильме о Юрии Казакове 2012 года “Спрятанный свет слова…” И это удивительно слушать сегодня! Казакову в 1967-м всего только 40 лет. А голос уставший, надломленный. Зайцеву осталось жить пять лет, он глубокий старик, к тому же много лет проведший возле постели разбитой инсультом жены. Голос бодрый, крепкий, ясность памяти и сознания идеальная!
И тут согласишься с тем, что дух питает силы человека гораздо больше его физических возможностей.
До революции Зайцев по своим взглядам был скорее пантеистом. Как и Бунин, воспевал умирающие “дворянские гнезда”, ругал городскую жизнь, любил природу. Переболев тифом и оказавшись в эмиграции, Борис Зайцев становится христианским писателем, и я просто не знаю другого случая, кроме, может быть, “Соборян” Николая Лескова и “Лета Господня” Ивана Шмелева, чтобы тема христианства, Церкви, православных святых так органично сочетались с художественным талантом. Он писал жития как биографии (“Преподобный Сергий Радонежский) и биографии как жития (Жуковский, Тургенев, Чехов). У него не было противоречия между православным взглядом на мир и светским искусством, что, как правило, неизбежно.
Ясный, светлый и глубоко религиозный писатель!
Свой последний рассказ он опубликовал задолго до смерти в 1964 году – “Река времен”. Эмигрантская критика писала, что рассказ можно поставить в один ряд с “Архиереем” Чехова. И это правда.
Вспомним об этом писателе сегодня. Перечитаем его заново.
Павел Басинский, РГ
Борис Зайцев о Козельске:
“Этот городок мне всегда нравился — Сухиничи и Перемышль просто захолустье, убожество, тоска уездного городишки, но в Козельске лучше и поэтичней: много церквей, зелени, все понарядней, чудесный луг по Жиздре, а за нею бор, в нем знаменитый монастырь — кажется, купола его видны и из Козельска.
Какое-то свое действие на Козельск Оптина пустынь имела, я уверен. Или, может быть, и возникла около него не случайно — Козельск древний, благородный городок, некогда геройски отбивавший татар (помнится, там была даже княгиня-мученица). Так что это Русь вековая, прославленная. Около лабазов Сухиничей монастырь не возник бы.”
Источник: Б. К. Зайцев. Дневник писателя


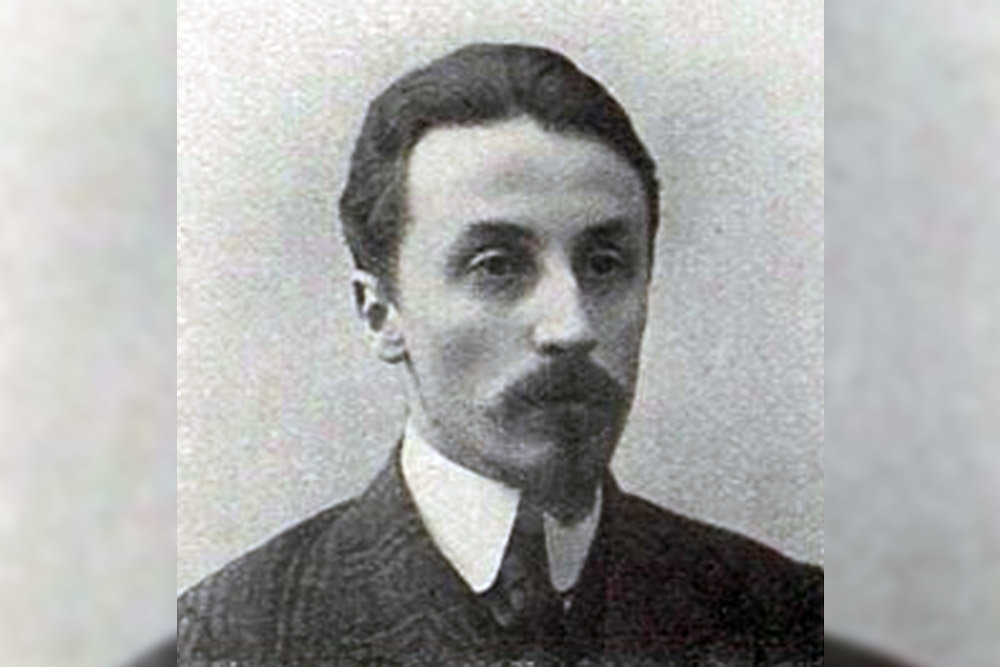

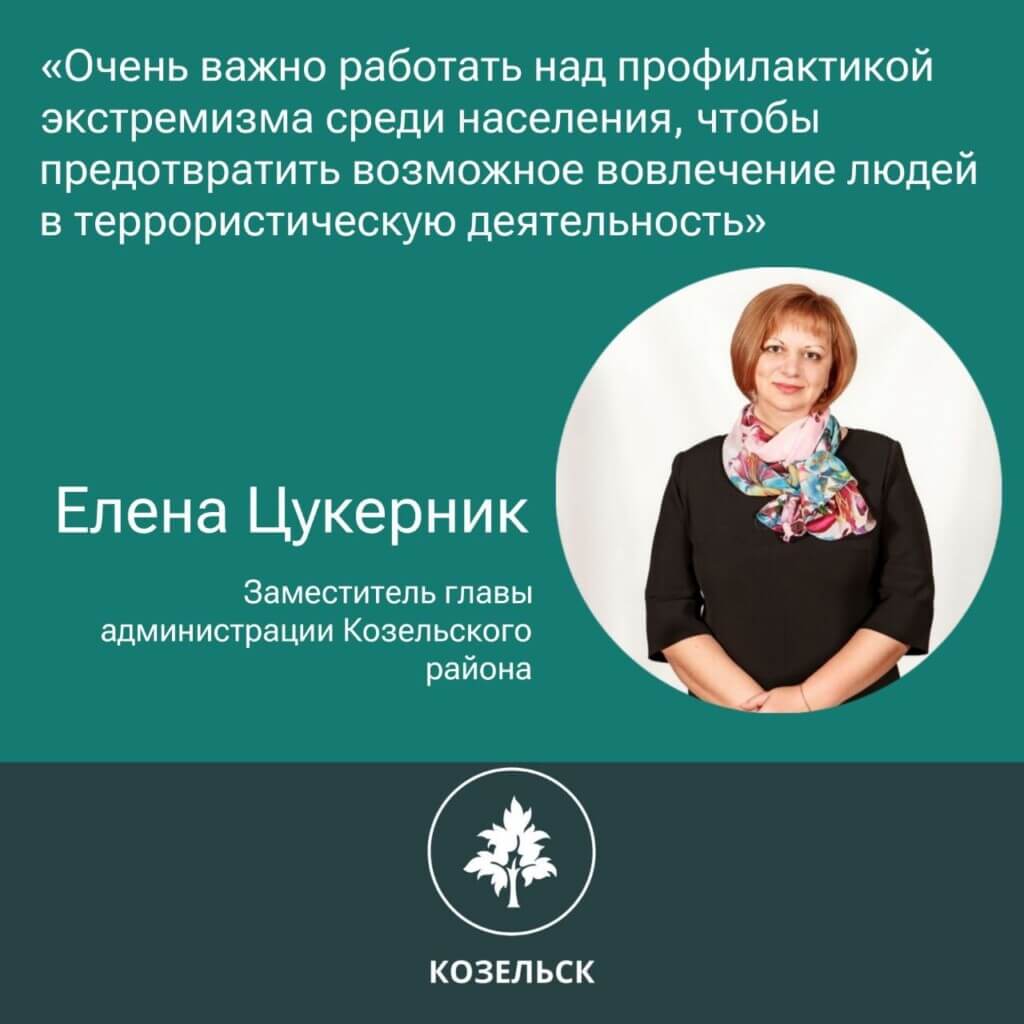

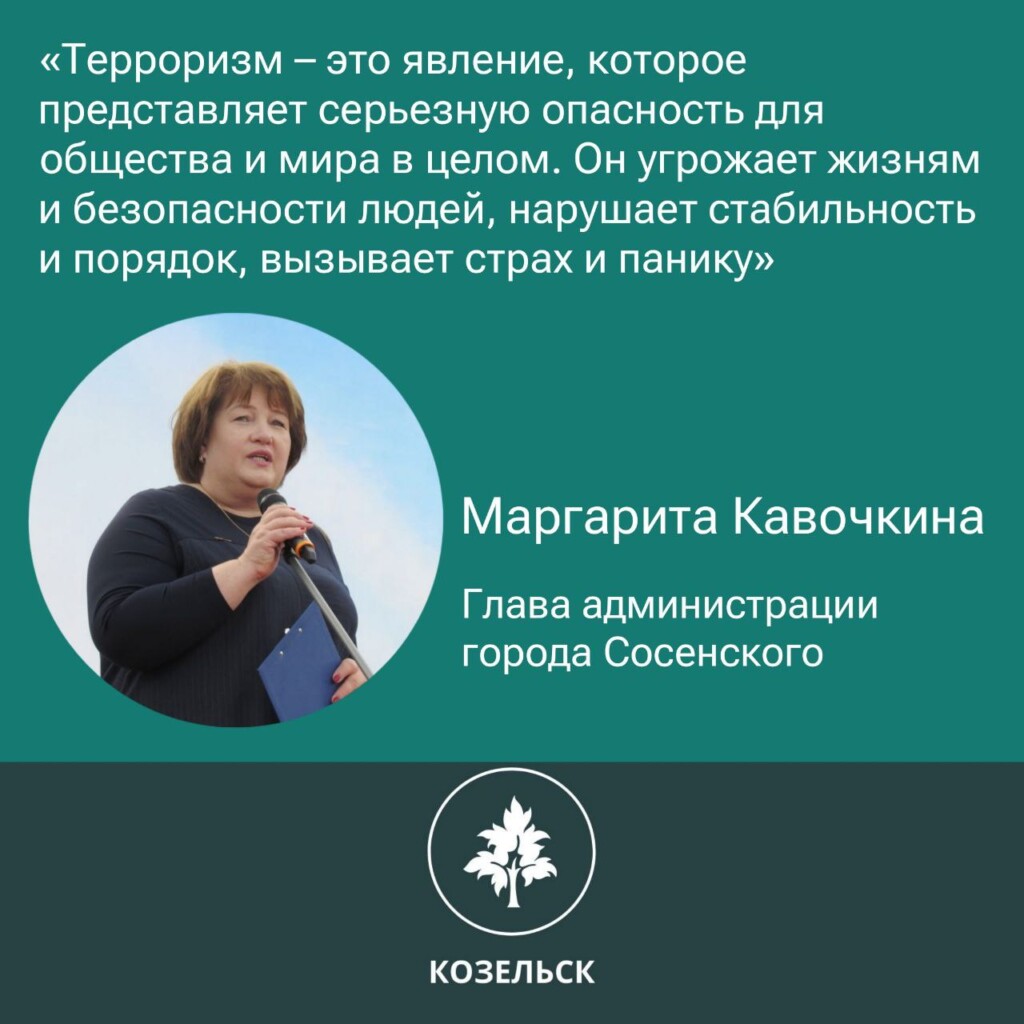

Конечно же Борис Зайцев вовсе не забытый. Да его не печатали в определённые годы. Но ведь В 1922 году избран председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей. И уехал он из страны за границу для лечения. Де, не вернулся. Но в эмиграции подчас имел репутацию «агента ГПУ». Основной мотив его эмиграции: «Живя вне Родины, я могу вольно писать о том, что люблю в ней о своеобразном складе русской жизни…, русских святых, монастырях, о замечательных писателях России». Кстати, Калужской земле писатель не чужой – Детство провёл в селе Усты Жиздринского уезда Калужской губернии (ныне Думиничский район Калужской области). Для него Жиздра – такая же родная река, как и длля козельцев. Ознакомиться с творчеством Бориса Зайцева можно здесь: Электронное научное издание Полного собрания сочинений Б. К. Зайцева в оригинальной орфографии / Соболев Н. И., Вяль Е. Н., Солопова А. И., Заваркина М. В., Панюкова Т. В. и др. — Петрозаводск, 2007. — Русский яз. — URL: http://philolog.petrsu.ru/zaitsev/index.html
(Материал из Википедии. Уж извините.)